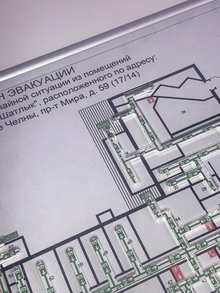Дискуссия о постколониальном сознании в литературных произведениях
От Северной Африки до Центральной Африки,Развернутая дискуссия о постколониальном сознании в литературных произведениях.
Введение
Монография польско-американского ученого Евы Томпсон «Имперское знание: русская литература и колониализм» 2000 года является ответом на внутреннее подавление сопротивления в русской литературе, которое непреднамеренно позволило «исчезнуть» внешней экспансии России.
Когда-то литература считалась формой искусства, далекой от политики, сосредоточенной на микро- и уникальной личности, а не на великом и широком коллективе, своего рода идеальным убежищем и утешительным присутствием. Этот стереотип усложнил восприятие несправедливости колониальных сообществ и меньшинств в литературе.
В эссе предполагается дальнейшее расширение дискуссии о литературе и имперском сознании путем расширения некоторых направлений и примеров колониальной и антиколониальной мысли в литературе на примере «черноно́гого» Камю и колонизации Северной и Западной Африки его родной Францией, что поможет нам понять сопротивление в современной культуре. Полезно отождествление имперского сознания и антиколониальной логики.
Вглубь «бесплодной земли»: создание колониального порядка
Многие колониальные сочинения вращаются вокруг темы «Коренного». «Коренной» никогда не был политически нейтральным словом в историческом контексте западной антропологии. В колониальный период, будь то антропологи, которые отправлялись в колонии, социологи, которые делали этнографические записи, «исследователи», которые проводили биологические и геологические исследования, или художники, писатели и миссионеры, ищущие «вдохновения», их труды подтверждали имперский порядок и колониальную логику в той или иной степени, намеренно или непреднамеренно. В этой логике колонизированные или коренные группы стали «примитивными», «низкими» и «варварскими» «цветными» людьми, которые сильно отличались от белых европейцев в центре империи или даже полностью противостояли им.
«Робинзон Крузо» Дефо, как мы его уже читали, воспринимается как история человека, который преодолевает все трудности, а затем возвращает свою жизнь в нормальное русло. Но если посмотреть на эту историю с колониальной точки зрения, то речь идет о человеке, который отправляется на необитаемый остров. Он прибывает на необитаемый остров и превращает его в свою собственную колониальную империю. «Робинзон Крузо» — это, по сути, книга, отражающая колониалистские тенденции автора. Возможно, сам автор не осознавал этого, возможно, он просто расширил свое воображение и написал роман, основанный на событии того времени, но слова любого человека также контролируются идеологией того времени.
Friday and Robinson Crusoe
Имперская логика, оправдывающая колониальное правление и негативную конструкцию колонизированного населения, затрагивает все аспекты интеллектуального и культурного производства и не исчезает с национальным освобождением и национальной независимостью колонизированных районов, но существует в более неясной форме в современном мире. Колонизированное население также усваивает расистские нарративы о себе, принуждая или даже активно подчиняясь колониальному порядку власти и системе дискурса, которые по-прежнему влияют на национальное воображение и национальное строительство бывших колоний после обретения независимости.
В одной из своих книг под названием «Культура и империализм» Саид написал эссе под названием «Камю и французская империя», в котором он говорит, что рассказ Камю о том, оставила ли Британия индийские колонии или нет, пронизан запоздалой и в некотором смысле бессильной колониальной чувствительностью. Эта чувствительность проявилась как жест внутри империи и через форму, форму реалистического романа, который значительно превзошел достижения европейского романа. Почему Саид так говорит о Камю, на самом деле, следует понимать в свете опыта самого Камю.
Североафриканский нарратив
Альбер Камю и Ассия Джебар — алжирцы, и оба пишут на французском языке, но их происхождение и взгляды очень разные. Камю был потомком французских поселенцев, их называют черноногими (фр. Pied-Noir).Большинство из них выступали против войны за независимость Алжира. После обретения Алжиром независимости в 1962 году Камю уехал во Францию. Его герои часто чувствуют себя не в своей тарелке в Алжире, но другого дома у них нет. Они знали о своих несправедливых привилегиях при колониальном правлении, но они также настороженно относились к алжирским мусульманам и не могли представить себе более справедливого способа организации алжирского общества за пределами империи. Джабар — алжирская мусульманка с арабским и берберским происхождением. В молодости она активно участвовала в войне за независимость Алжира. Ее работы охватывают войну за независимость, наследие французского колониализма и продолжающееся движение позитивных действий алжирских женщин. Читая две антологии Джебары и Камю, «Женщины в Алжире в своих квартирах» (1980) и «Изгнание и королевство» (1957), мы можем почувствовать ее вызов тому, что Камю принимает как должное или отрицает, с точки зрения родного Алжира
Альбер Камю и Ассия Джеба
Города Оран и другие города в книге Камю «Чума» имеют эталонную модель — Францию, которая содержит жест европейского дискурса, и этот жест конкретно проявляется в его изображении тягот колониальной жизни, тем самым подчеркивая, что Франция на самом деле может оптимизировать и адаптировать свою политику по отношению к колониям. Это колониалистская тенденция, но Камю, с другой стороны, сопротивляется ей. Причина этого в том, что он поставил перед собой моральную дилемму, которую он разрушает своим личным бунтом, чтобы простить себя. Если это не слишком очевидно в случае с «чумой», то еще более очевидно в другой его книге, «Изгнание и царство».
Камю часто интерпретируют как универсального писателя, озабоченного состоянием человека. Он получил Нобелевскую премию по литературе в 1957 году, в том же году, когда была опубликована книга «Изгнание и королевство». Он получил послание от жюри, в котором говорилось, что «его важные литературные творения освещают вопросы человеческой совести нашего времени проницательным и пылким взглядом». Действие многих историй в «Изгнании и Королевстве» происходит в Алжире, но повествование представляет собой единую точку зрения французского поселенца, с арабами, незримо контекстуализированными и замолчавшими. Среди них «нецеломудренная жена», которая вплетает политическое расширение прав и возможностей, то есть возрождение алжирской земли, в расширение прав и возможностей женщин французских поселенцев, чтобы освободиться от оков семьи и вновь обрести свободу. История написана примерно во времена алжирской войны за независимость, и хотя героиня Жанин родилась и выросла в Алжире, ее очень расстраивает незнакомый арабский язык. Между строк ее колониальных слов мы можем прочитать ее печаль по поводу земли, которую она вот-вот «потеряет», и ее сильное желание завладеть ею в истинном смысле.
В конце истории Джанин получая удовлетворение от семейной жизни, своего мужа и примиряется с землей, которая заставляет ее чувствовать себя странно.
«Изгнание и королевство», Альбер Камю, 1957 г.
Рассказ Джабары «Изгнания нет», также написанный во время войны за независимость, резко контрастирует с рассказом Камю по названию и содержанию. Безымянный рассказчик заключен в тюрьму несколькими разными структурами, вынужден эмигрировать из своего родного Алжира в Тунис из-за войны, в то время как героиня по-прежнему прикована к квартире и вынуждена выйти замуж. Здесь изгнание не приносит освобождения, структурное угнетение не исчезает из-за географической мобильности, а двойное угнетение колониальных и традиционных обществ означает, что примирения нет, и сопротивление является единственным выходом.
Название «Алжирские женщины в своей квартире» происходит от одноименной картины Делакруа 1834 года, а другое эссе в сборнике «Запретный взгляд, разорванный звук» является прямой критикой ориенталистского мужского взгляда Делакруа, традиционному мусульманскому дому, где мужчинам обычно не разрешалось входить в традиционную мусульманскую резиденцию гарема, было разрешено смотреть на этих мусульманских женщин и выставлять свои картины во Франции, что давало другим европейцам привилегию смотреть на алжирских женщин. Именно на это представление о насилии нападает Джебар: Делакруа получает удовольствие и вдохновение, вглядываясь в местных женщин и их молчание, и выставляет их как зрелища среди колониальных хозяев. Джебар также критиковала алжирских мужчин, которые были союзниками и товарищами: хотя женщины внесли большой вклад в войну за независимость, например, участвуя в войне и используя свои тела в качестве прикрытия для установки бомб, их социальный статус не изменился после войны.
Women of Algiers,Eugène Delacroix,1834
Мы должны быть в состоянии думать одновременно о том моменте, когда французские женщины-поселенцы испытали примирение с отчужденными колониальными землями, и о моменте, когда алжирские женщины использовали свои тела для сопротивления колониальному правлению в качестве террористов-смертниц. Очень разные ситуации Камю и Джебар с оседлыми женщинами во Франции и местном Алжире требуют от нас размышлений о том, действительно ли универсальное человеческое состояние Камю настолько универсально.
Алжир, 1920 год.
Коренные алжирцы (слева), Европейцы (справа)
Западноафриканская осанка и «Sandwalk»
Например, в научно-фантастическом фильме «Дюна», основанном на одноименном произведении Фрэнка Герберта 1965 года, широко распространено мнение, что Фримен, коренной житель планеты Арракос, основан на арабах Ирака. Есть сцена, в которой сын герцога, Пол и леди Джессика, собираются войти на территорию песчаного червя, и Пол предлагает им имитировать ходячую позу Фриманов. «Мы не можем ходить, как нормальные люди» — сказал он. Если мы это сделаем, мы умрем. Мы должны ходить, как Фримены». Эта сцена совпадает с описанием французского физиолога и этнографического режиссера Феликса-Луи Реньо «аномалии» ходьбы западноафриканцев в конце 19-го века: Регенот считал, что сильно изогнутый, «дикий» и «доисторический» стиль ходьбы западноафриканцев помогал французским солдатам маршировать.
《Cronofotografía》- Félix Regnault Основываясь на технике получения изображений в разрыве, разработанной Жюлем Марей, он создал потрясающие виды движения благодаря своему интересу к коренным народам Африки.
Центральная Африка, 《Сердце тьмы》
Шедевр польско-британского писателя Джозефа Конрада «Сердце тьмы», безусловно, усилил опасения по поводу соучастия некоторых литературных произведений в колониализме. Нигерийский писатель Чинуа Ачебе утверждает, что Конрад эстетизирует тему «проникновения на „варварскую землю“ и стоящие за ней властные отношения и колониальный порядок». Логика, переданная в этой заразительной книге, заключается в том, что современная европейская цивилизация, «преодолевшая» тьму досовременной эпохи (представленная торговцем слоновой костью англичанином Курцем), вступает в контакт с «досовременным» «черным континентом» Африки представленным в книге. После контакта с «черным континентом» досовременной Африки, представленным в книге Конго, ему грозит опасность быть снова поглощенным «варварством» и вернуться во тьму (болезнь и смерть Курца).
Ачебе отмечает, что слабо утверждать, что Конрад является расистом, говоря, что «автор — не рассказчик». Западные исследователи «Сердца тьмы» часто утверждают, что Конрад озабочен не Африкой, а деградацией европейского человечества, и что повесть сосредоточена на сатире на «цивилизаторскую миссию» Европы в Африке, а Конго является фоном для распада человечества Курца. С другой стороны, Ачебе утверждает, что «Африка как обстановка и контекст… как метафизическое поле битвы» как раз и является проблемой: африканцы, которые появляются в книге, лишены какой-либо узнаваемой человечности, и «неужели никто не понимает, что это уменьшает как абсурдно, извращенно и высокомерно сводить Африку к подпорке для расколотой человечности европейцев?».
Колонизированный возвышается над своим статусом в джунглях пропорционально тому, как он принимает культурные стандарты материнской страны. - Франц Фанон, «Черная кожа, белые маски».
Заключение
Признание соучастия литературы и искусства в упорядочивании империи — это не то же самое, что отвергать произведения и самих писателей, а скорее видеть родство между искусством и политикой, быть внимательным к негласным, узаконенным или даже романтизированным несправедливым отношениям власти в произведениях искусства, и, прежде всего, устранять вред, который эта логика может нанести в реальном мире тем, кто находится на бесправной, порабощенной стороне порядка. Постколониальный мыслитель Эдвард Саид выступает за контрапунктическое прочтение, которое призывает нас прислушаться к голосам бывших колониальных местных писателей и бывших писателей меньшинств из наших родных стран, и таким образом задуматься о нашем длительном пребывании в мире, сконструированном интеллектуальными, культурными и художественными производителями. Чей это мир? Чей мир является миром субъекта? Сопровождается ли возникновение чувства субъективности десубъективацией, дегуманизацией и замалчиванием некоторых других или даже основано на этом?
Библиография
1.Рони, Фатима Тобинг. «Третий глаз: раса, кино и этнографическое зрелище»; 2.Ачебе, Чинуа. «Образ Африки: расизм в сердце тьмы Конрада»; 3.«Камю и французский имперский опыт», в книге «Культура и империализм»; 4.Аптер Эмили. «Вне характера: французские алжирские подданные Камю»; 5.Саида и Ассии Джебар, Исследования африканских литератур; 6.Полин Ада, «Развенчание патриархата: освободительное качество голоса при нервных состояниях Цици Дангарембги», Исследование африканских литератур; 7.Приямвада Гопал и Асим. «Деколонизация и университет: полное отрицание „Запада“ как последствия колониального разума»; 8. Антон Ляпин, «Страх и ненависть в Алжире»; https://warspot.ru/8347-strah-i-nenavist-v-alzhire; 9.Франц Омар Фэнон «Черная кожа, белые маски».